
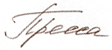 |
 |
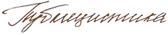 |
«Мужские заметки» в присутствии господина фон Гёте.
"Мы слишком
поздно замечаем,
что, развивая свои добродетели,
мы вместе с ними культивируем
и пороки".
(Иоганн Вольфганг фон Гёте)
...Непоправимость шага и означает страсть.
Сергей Денисенко.
Странно (и, быть может, кощунственно) подумалось: если бы
уважаемым мексиканским кинематографистам взбрело в голову снять фильм по
сюжету, легшему в основу гетевского «Клавиго», то получилась бы лихая
многосерийная «мыльная опера». И, возможно, она бы даже называлась «Просто
Мари» (по имени одной из героинь пьесы). И примерно половина лучшей половины
человечества просиживала бы вечерами у телеэкранов, и уревывалась бы, и
шептала: «Какие мужики сволочи!...»
Немецкий режиссер Штефан Шмидтке, поставивший на Камерной сцене Омского
академического театра драмы «Клавиго», совершил, на мой взгляд, почти
невероятное: он сделал (внимание, милые феминистки!) сугубо «мужской»
спектакль, без каких – либо даже отдаленных намеков на изначальную «мыльность»
сюжета. Спектакль довольно жесткий, хладнокровно – страстный, по-мужски четкий
и чеканный, как мысль зрелого, «послеклавиговского» Гёте: «Одно только
несчастие существует для человека... Это когда им овладевает идея, не имеющая
никакого влияния на действительную жизнь или же отвлекающая его от труда».
Спектакль Шмидтке – о несчастии талантливого человека, нравственно гибнущего от
невозможности найти компромисс между чувством и долгом, между сердцем и разумом
(что, впрочем, опять же – позднее сформулировано мудрым Гёте: «Нравственность –
это вечная попытка примирения наших личных потребностей»).
Замечательно, что жанр омского «Клавиго» обозначен как «Представление», и не
просто с точки зрения стилевой изящности: так или иначе, но перед нами –
реализованное посредством театра представление (в значении мыслительной
субстанции) актеров, режиссера, художника и о времени, отдаленном от нас почти
двумя с половиной столетиями, и о том, каковы точки соприкосновения
нравственности сегодняшней и нравственности позапрошловековой. (Право же,
вопрос не праздный. И хотя автор данных строк так же, как и вы, многоуважаемый
читатель, считает нравственность категорией «неизменной», – не могу не
вспомнить один прелюбопытнейший факт: недавно в Италии был реабилитирован –
спустя почти 30 лет после запрета! – великий фильм Бертолуччи «Последнее танго
в Париже». Формулировка была недвусмысленна: «Фильм больше не может
рассматриваться как произведение, оскорбляющее общественную нравственность,
поскольку за прошедшее время само понятие нравственности подверглось
изменению». Так – то. Это за три десятилетия, оказывается, нравственность
изменилась. А что ж тогда говорить о периоде в 225 лет?!).
Омский «Клавиго», пусть опосредованно, но ясно дает ощутить существенное
различие между «нравственностями» разных столетий: чувство вины и угрызения
совести за безнравственные поступки все же в большей степени отличали наших
просвещенных предшественников на этой Земле. И не рефлексия это была, а форма
проявления истинной страсти.
Актерская работа Андрея Никитинских в заглавной роли принадлежит к бесспорным
удачам спектакля. В его взгляде, в интонациях его, даже в кажущемся внешнем
спокойствии – во всем едва сдерживаемая мука, мука раздвоенности, мука
неразрешимых противоречий. Словно моноспектакль в спектакле. Словно
концентрация всех вечных вопросов бытия в человеке одном. И в кровь изводящие
душу попытки нравственно ответить самому себе на безнравственное: отличается ли
долг человека необыкновенного от долга простого смертного?.. Собственная
избранность понимается им уже априорно (и не без оснований). Органично и
естественно слетает с уст мессианское: «Мне еще предстоит привить народу
хороший вкус». Но рядом с целью намеченной, с путем избранным – Она.
Неизбранная. Ненужная уже. Потому что вместо любви – только жалость и
сострадание. И еще – это проклятое чувство долга!.. О, как все это великолепно
«прочитывается» в Клавиго, сыгранном А.Никитинских! Страсть, низводящая тебя до
бесстрастности. Аукается неожиданно поэт современный: «Что означает тяга,
высвободясь, пропасть? Непоправимость шага и означает страсть». епоправимость
шага уже осознана. Но чтобы окончательно высвободиться, чувство вины и
угрызения совести мешают. Где ты, друг Карлос?..
У каждого Фауста есть свой Мефистофель. Гениальность двадцатипятилетнего Гёте,
на основе мемуаров Бомарше написавшего (чуть ли не на спор) «Клавиго» за одну
неделю, – в придуманном им персонаже по имени Карлос. Еще одна яркая актерская
работа спектакля – Игорь Балалаев. Карлос. «Мефистофель» для Клавиго. Но –
добрый и искренний. Судьба друга для него – его собственная судьба. И судьбу
Клавиго он «строит добрый десяток лет». Не снедаемый противоречиями, возникает,
как «черт из табакерки»; не лукавя, замечает, что, когда Клавиго был у ног
Мари, «в сочинениях было больше теплоты и жизни», и тут же, так же не лукавя,
делится опытом собственным: «Все женщины так однообразны», «С женщинами теряешь
много времени»... В Карлосе И.Балалаева – страсть дружбы, дружбы бескорыстной и
прямолинейной. И еще – чувство ответственности за судьбу избранного товарища.
Взаимодополняя друг друга, они словно держат в руках нити судеб людских.
Клавиго плюс Карлос... И уже кажется, что вот-вот заговорит Заратустра.
В эпицентр четко обозначенного режиссером конфликта вихрем врывается Бомарше,
брат Мари. «Положительный персонаж». Браво Михаилу Окуневу, сумевшему подняться
над дидактичностью монологов и «социальностью» роли! Его искренность и страсть
стали адекватны искренности и страсти фаусто – мефистолевского дуэта. Конфликт
заиграл новыми красками. И стал почти ослепительным, когда мы познакомились с
«неизбранными» – семьей Жильбера, спокойными и тихими бюргерами, опекающими
чахнущую (и от предательства Клавиго, и от болезни) Мари.
Ярки и точны работы Николая Михалевского (Жильбер) и Надежды Живодеровой (его
жена Софи) – не поднявшиеся над бытом, они не снизошли до мещанства. Их
житейская добрая мудрость – в унисон надбытийным философствованиям «избранных».
Нравственность «во плоти»? Если хотите, – именно так.
Труднейшая задача выпала на долю актрисы Марии Степановой. В принципе, –
абсолютно «голубая роль» (так, в общем-то, и в пьесе). И если бы Штефан
Шмидтке, ставя сугубо «мужской» спектакль, в какой-то момент призадумался о
женщине, о «просто Мари», из-за которой и кипят страсти в гетевской пьесе (или,
если угодно, призадумался о «просто Марии» Степановой), – наверное, что-то
изменилось бы в трактовке этого образа. Ибо зрителю предлагается на протяжении
всего представления испытывать к Мари только жалость и сострадание. А при этом,
согласитесь, весьма трудно не симпатизировать Клавиго и не уважать его честную
принципиальность по отношению к бывшей возлюбленной. Спорно? Наверное. Но уж
тогда надо дать зрителю возможность (тем более, уважаемый Штефан, в зале есть и
мужчины. – С.Д.) полюбить Мари, дабы жалость и сострадание явились следствием
любви, а не исходной данностью. И вот тогда зрительская оценка Клавиго
приобретет иной и более неодномерный характер.
Трудно и актеру Олегу Теплоухову в роли Буэнко, друга семьи Жильбера.
Постоянные мизансценические «первые планы» при минимуме текстового материала
ставят актера в не очень выгодное положение; тем паче, задача – не из
простейших: сыграть не просто сопереживающего друга (молча страдать на сцене –
это, конечно, «не сахар»), но и человека, любящего Мари (а уж эта сюжетная
линия, увы, оказалась вообще за рамками представления; впрочем, молча любить на
сцене – «не сахар» тем более).
Достойно представлена Вячеславом Корфидовым эпизодическая роль друга Бомарше –
Сен-Жоржа. Достойно и, естественно, колоритно предстает перед нами Владимир
Девятков в роли слуги. Большего режиссеру, видимо, и не требовалось, а
«корректировать» ролевые «объемы» не захотелось.
Как известно, пьеса «Клавиго» специально переведена для постановки в Омске
Анастасией Толмачевой и Штефаном Шмидтке. Не вдаваясь в литературоведческие и
лингвистические аспекты, размышляю после премьеры «Клавиго» о наиглавнейшем для
театра критерии – звучащем Слове. И мысленно аплодирую переводчикам и театру.
Редкое удалось: «неразговорный» литературный текст стал органичной «живой
речью», речью высокой, красивой, изящной, по нынешним временам – эстетской даже
(о, как многое изменилось за 225 лет!..). И не может не вызвать уважения
великая просветительская функция, взятая на себя театром: я имею в виду и
возвращение пьесы Гёте на российскую сцену после полуторавекового забвения, и
изданную специально к премьерному спектаклю программку - буклет с подробным
изложением истории написания пьесы и судьбы великого фон Гёте.
У художника спектакля Катарины Грантнер и режиссера Штефана Шмидтке есть общий
творческий «пароль»: «Приключение во Времени и Пространстве». Метафоричность и
надбытийность сценографии – зримое тому подтверждение. Доминирующий белый цвет.
Мгновенная смена декораций (что немаловажно при однообразном гетевском
раскладе: «Дом Клавиго» – «Дом Жильбера» – «Дом Клавиго» и т. д.). Отсутствие
бытового реквизита. Стерильность. Та самая, в которой – Время и Пространство. И
единственно небесспорное – картина, висящая в раме в доме Жильбера: на ней
воспроизведен тот же рисунок, что и на заднике в доме Клавиго. Прозрачно – как
слеза Мари. И оттого тривиально. А нетривиально – если бы наоборот.
Представили? В доме Клавиго – картина, повторяющая атмосферу дома Жильбера, где
живет Мари. И возникает пронзительнейшая и больнейшая из тем: искусство и
жизнь. И тогда более сильно и ассоциативно обозначается: жизнь для Клавиго
(равно как и любовь) давно уже стала «поводом для творчества». Слово – Бог.
Жизнь – повод для рождения Слова. И ведь не случайно, в конце концов,
блистательно изменен режиссером гетевский канонически - шекспировский
трагический финал. То, что у Гёте происходит на сцене – поединок на шпагах
между Бомарше и Клавиго у гроба Мари, смерть Клавиго, – становится для Клавиго
«поводом для творчества»: написанной для журнала трагедией, которую он упоенно
читает Карлосу («...Я не боюсь твоего клинка!». Они бьются на шпагах. Брат
закалывает меня. «Благодарю тебя, брат, ты обручил меня с Мари!». Клавиго
падает на гроб Мари...«). И – до холодного озноба восторженная финальная
реплика Карлоса: «Журнал будет иметь успех! Все женщины придут от него в
восторг! В типографию!..»
И снова аукнется современность. И тоже – до озноба: «Бывает лишь счастье
найденной фразы, и еще большее – счастье найденной формы... То, что не
записано, – не существовало... Когда я говорю о том, что мною не было записано,
мне кажется, что я вру...» (это из «Дневника» Юрия Нагибина).
...А Время и Пространство уже явили себя. Раздвинулись стены дома Клавиго, и
огромное звездное небо обрушилось на нас. И конторка Клавиго с пером и
чернильницей странным образом стала похожа на маленький космический корабль. И
в кромешной темноте под бесконечными звездами обмакнул перо в чернильницу
Клавиго. Избранный Клавиго, для которого жизнь стала всего лишь поводом для
творчества. Всего лишь...
P.S. И было все это в День космонавтики. 12-го апреля. В день премьеры
представления «Клавиго». И Космос просто не мог не возникнуть. Тем более, у
людей, исповедующих принцип «приключения во Времени и Пространстве». После
спектакля над «театральным разъездом» как будто кружилось
внепространственновременное облако-аура; молча переглядывались женщины,
одинаково – по-джокондовски – улыбаясь; задумчиво закуривая, «уходили в себя»
мужчины, не улыбаясь вовсе; и неозвученно трепетали в облаке-ауре слова –
строки мудрого господина фон Гёте: «Вполне возможно, что произведение искусства
имеет нравственные последствия, но требовать от художника, чтобы он ставил
перед собой какие-то нравственные цели и задачи, – это значит портить его
работу».
